Европейская цивилизация от триумфа до заката. Часть 3
Продолжаем исследование, посвященное наиболее ярким страницам истории великой европейской цивилизации, ее взлету и угасанию.
Христианская этическая и эстетическая мысль стали ещё одним столпом европейской цивилизации. Именно эти высокие по своему моральному кодексу доктрины повлияли на культурный и духовный лик Европы. Никакие духовные или рыцарские ордена были бы невозможными без этих идей.
О красоте и благе
Христианская религия, культура и философия. Христианская этика и эстетика. Истоки её надо искать еще в трудах последнего римлянина Боэция, который в своём фундаментальном труде «Утешение философией», сидя в темнице писал: «Что касается внешней красоты, то она преходяща и более быстротечна, чем весеннее цветение». Именно так христианство понимало свое отношение к телесному миру и телесной красоте. Позже отклики подобных идей мы находим у святого Бернарда. Этот истинный основатель идеологии и теологии средневекового рыцарства размышлял следующим образом: «О сколь прекрасна душа, которую, несмотря на ее обитание в бренном теле, небесная красота не презрела допустить до себя, ангельская превознесенность не отвергла, божественный свет не отринул!» (Sermones super Cantica Canticorum).
Бренная внешняя привлекательность и наслаждение её в годы средневековой схоластики не ставилась ни во что, а единственным надежным противовесом этому всему была неуничтожимая внешняя красота, корни которой теологи того времени видели в божьем творении и ангельском подобии.В подтверждении тому святой Бернард пишет: «Когда же сияние этого великолепия начало преизобиловать в сокровенных глубинах сердца, надлежит, чтобы оно проявилось вовне, как светильник, сокрытый под спудом, более того, как свет, который, сияя, не может скрываться в темноте. Кроме того, тело обретает подобие разума, который сияет, как бы прорываясь своими лучами, и оно распространяет его по своим членам и чувствам до тех пор, пока благодаря сему не начинает сиять всякое действие, речь, взгляд, поступь и смех – лишь бы этот смех был проникнут достоинством и преисполнен скромности».
В те годы мыслители и теологи европейского мира воспринимали всё прекрасное как трансцендентное. Это был дар высших миров вселенной. Это был дар Господа, а основой подобных идей были слова из Ветхого Завета. В книге Бытия говорилось, что на исходе шестого дня Бог увидел, что всё им сотворенное хорошо. В другом месте Книги Премудрости Соломона, анализируемой святым Августином, проясняется мышление человека того времени, как человека авраамического, апеллирующего к высшим вселенским категориям, которые строятся на том, что все это есть проявление высшего метафизического блага и это есть основа всего этического и эстетического порядка и гармонии.
Однако корни подобного мировоззрения были не только в Библии. Отражение мира как божественной красоты средневековые мистики и теологи видели ещё у Платона, в его размышлениях в «Тимее». Это отражается и у Цицерона в его трактате «О природе богов». Там сказано, что из всех вещей нет ничего лучше и нет ничего прекраснее, чем космос.
Псевдо-Дионисий Ареопагит, уже отражая чисто христианские позиции пишет: «Сверхсущественное же прекрасное называется красотой потому, что от него сообщается собственное для каждого очарование всему сущему; и потому, что оно – причина благоустроения и изящества всего и наподобие света излучает всем свои делающие красивыми преподания источаемого сияния; и потому что оно всех к себе привлекает, отчего и называется красотой; и потому что оно все во всем сводит в тождество».(De divinis nominibus).
Эти мысли будут развиты у Скота Эриугены, который оценивал вселенский космос как Откровение Бога и увязывал его космическую восхитительность через красоту душевную и телесную, проявленную через творения и идею Господа в нашем мире. Ему вторит другой выдающийся мыслитель схоластики Гильом Овернский, обосновывая свои воззрения: «Когда взираешь на изящество и величие вселенной… обнаруживаешь, что эта самая вселенная подобна прекраснейшей песне».
В 1228 году Гильом Овернский пишет труд «Трактат о благе и зле», где рассматривает красоту с христианской точки зрения. Он говорит о красоте благородного поступка и уравнивает между собой красоту нравственную и честность, порядочность. Здесь он апеллирует к учениям стоиков, к Цицерону и Августину, «Риторике» Аристотеля.
В 1243 году Роберт Гроссетест в своем комментарии к Дионисию, наделяя Бога именованием красоты, пишет: «Итак, если всё сообща желает благого и прекрасного, благое и прекрасное есть одно и то же. Бог именуется благим, поскольку Он наделяет все вещи существованием и поддерживает их в бытии, прекрасным же Он именуется потому, что предстает как упорядочивающая причина всего сотворенного».
Великий писатель и мыслитель Умберто Эко пишет в этой связи: «В трактате Филиппа Канцлера «О благе» (Summa de bono), созданном в начале XIII века в атмосфере подобных умонастроений, мы видим первую попытку точно определить понятие трансценденталии и наметить классификацию трансценденталий на основе онтологии Аристотеля – точнее, тех замечаний, которые Стагирит делает в первой книге своей «Метафизики» относительно единого и истинного, – а также на основе выводов, к которым ранее пришли арабские мыслители, обогатив Аристотелев перечень свойств бытия понятиями res (вещь) и aliquid (нечто). Особо акцентируя внимание на bonum (благе) – новшество, возникшее в ходе полемики с манихеями XIII века, – и вдохновляясь представлениями арабов, Филипп развивает идею тождественности и взаимообратимости трансценденталий, а также их различаемости secundum rationem, согласно способу рассмотрения. Благо и бытие взаимопроникают друг в друга, однако благо в соответствии со способом его рассмотрения привносит нечто в бытие: bonum et ens convertuntur… bonum tamen abundat ratione supra ens. Благо – это бытие, рассмотренное с точки зрения его совершенства, его действенного соответствия той цели, к которой оно устремлено, подобно тому как unum (единое) есть сущее, рассматриваемое в аспекте его неделимости».
Совместить несовместимое
Мы видим, что средневековые теологи, мыслители и схоласты увязывают Красоту с божьим творением, видя в ней проявление высшей благости и воли Господа, опираясь на Библию, но не забывая об Аристотеле и стоиках. Античность не забыта, как это говорят сегодня, возводя воскрешение античности к эпохе Возрождения. Нет, это не так, схоластика рассматривает и видит в христианской теологии и эстетике античные корни, правда, не забывая о Священном Писании. Определенно и четко это проявляется в трудах св. Бонавентуры и Альберта Великого.
Бонавентура родился в 1217 г. в окрестностях Орвьето. Во время своего обучения в Париже он пишет работу комментариев к сентенциям Петра Ломбардского, а до этого биографию св. Франциска. Теолог обретает широкую известность и признание в католическом мире. Из всех теологов того времени он единственный создает целостное учение, и по мнению ряда историков, ему удается создать наиболее полный теологический синтез. В этих трудах Бонавентура делает невозможное: он совмещает в единое теологическое и философское целое труда оппонентов Платона и Аристотеля. Это было практически невозможно, ибо Платон создал идеологию мистическую и метафизическую, Аристотель, отвергавший его учения, был основателем рационалистической философии. Современный нам исследователь Эверт Х. Казенз считал основой учения Бонавентуры концепцию объединения противоположностей. Корни данной концепции, с которой, впрочем, трудно согласиться, лежат в Библии, где господь Бог одновременно и бесконечен и персонален, трансцендентен миру, и историчен, раскрываясь на пути человечества, вечен и существует во времени. Все это находит свое отражение и в божественной личности Христа, но примиряет эти противоположности, согласно Бонавентуре, третье лицо Троицы - Святой Дух.
Одновременно Бонавентура, как францисканец, раскрывает глубокое знание природы, поскольку Божественная мудрость открывается в космических объектах и познание материи позволяет познать, трансцендентны ли Божественный разум и его материальное творение как цель преображение этого мира. В то далекое время многие авторы призывали к изучению природы, задолго до эпохи Возрождения стимулируя развитие естественных наук, закладывая основы для будущих великих открытий.
Познавая непознаваемое
В этом направлении творили Роджер Бэкон, Уильям Оккам и его последователи. Рождалась схоластика, которая пыталась совместить Божественное откровение с разумом, веру с познанием. Это был принцип св. Августина, считавшего истинным «уверовать, чтобы понять». Последний подчеркивал, что разум вторичен по отношению к вере, но он необходим для познания Бога и его творения. Конкретнее - он утверждал нетщетность разума по отношению к вере. Эти учения окончательно разработал в своем сочинении «Четыре книги сентенций» Петр Ломбардский. Он считал, что теолог-схоласт должен рассуждать на следующие темы: Бог, Творение, Боговоплощение, Искупление и Таинства.
Теологическое исследование в этом направлении были продвинуты Альбертом Великим, а затем развиты и систематизированы его учеником Фомой Аквинским. Фома считал, что бытие Бога открывается человеку, стоит ему обратиться к природе и окружающему миру, ибо мир находится в движении, а оно должно иметь свою причину, а эта причина свою причину. Так прослеживается причинно-следственный ряд, и он не имеет своего источника, если не признать за таковой существование Бога и божественной причины.
Великий религиовед Мирча Элиаде, анализируя эти проблемы в своем фундаментальном труде «История веры и религиозных идей», обобщает: «Бесконечный и простой, Бог постижим человеческим разумом, однако невыразим словами. Бог есть чистое бытие (ipsumesse), следовательно, Он бесконечен, вечен и неизменен. Представленное св. Фомой доказательство бытия Божия одновременно доказывает, что Он – создатель вселенной, которую сотворил по собственному произволению, без каких-либо побудительных причин. Однако, согласно Аквинату, человеческий разум бессилен самостоятельно постичь, существует ли мир известно или имел начало. Божественное откровение сообщает нам веру в то, что сотворение мира осуществилось во времени. Это одна из истин, дарованных откровением, наряду с другими (первородный грех, Святая Троица, Воплощение Сына Божия и т.д.). Соответственно, она может стать предметом теологии, но не философии».Действительно, согласно схоластикам и другим средневековым теологам, человек создан, чтобы познать Бога во всей полноте, но, вследствие грехопадения, он способен Его постичь лишь через откровение. Мирча Элиаде считал, что божественная благодать позволяет верующему познать Бога в той мере, в какой Он обнаружил себя в Священной истории. Историк медиевист Е. Гилсон в своем исследовании «Философия средних веков» развивает эти мысли. Он пишет: «Несмотря на противодействие богословов, взгляды св. Фомы привлекли множество последователей, не только доминиканцев, но и представителей других философских и религиозных школ […] Томистская реформа затронула как богословие, так и философию, коснувшись всех коренных проблем каждой дисциплины, но, как нам видится, наиболее ощутимо затронув фундаментальные вопросы онтологии, определяющие разрешение и всех прочих». Гильсон считал, что главная заслуга св. Фомы состоит в том, что ему удалось успешно избежать как «теологизма», признающего самодостаточность веры, так и «рационализма». Тот же автор полагает, что закат схоластики начался с осуждения некоторых взглядов Аристотеля (а в еще большей степени его арабских комментаторов) Парижским епископом Этьеном Тампьером в 1270 и 1277 гг. С этого момента сотрудничество богословия с философией было во многом скомпрометировано. Критические выступления таких схоластов, как Дуне Скот и Уильям Оккам также стремились разрушить томистский синтез. В результате размежевание богословия и философии предвосхитило явственный в современных обществах разрыв между священным и профанным.
С этого момента начинается противостояние теологии и философии, противостояние мистического взгляда человека верующего со взглядами человека рационального, человека науки, ибо последняя начинает утверждать в Европе и в сознании европейского человека отрицание высшего божественного начала. Университеты, некогда бывшие оплотом теологии, становятся оплотами рационализма, профанизма и материализма, священное знание уходит в церковь и тайные общества средневековья, такие как тамплиеры, госпитальеры, тевтоны, доминиканцы и францисканцы. Пропасть разрывает на долгие века некогда единое исследовательское сообщество, и эта пустыня, по словам Фридриха Ницше растет. «Горе тому, кто хранит в себе пустыню».
Вячеслав Матвеев
(продолжение следует)
- Ключевые слова: Европа история цивилизация
- Фото:
- Обратная связь: Написать в редакцию | Задать вопрос
- Приложения:

























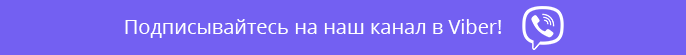















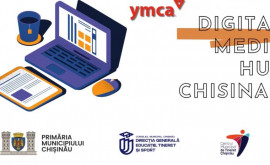






Добавить комментарий