Прохоаде
Олег Панфил
(Pastele blajinilor, Пасха блаженных, Prohoade, День поминовения, Радоница)
Это праздник такого рода, о котором не скажешь, что он нравится, что ему радуются и его ждут с нетерпением. Скорее, в его преддверии можно услышать приватные разговоры о том, что опять нужно тратиться финансово и организационно: прийти нужно на могилы всех родных, а они часто расположены в разных селах, иногда и в разных районах. Именно поэтому День поминовения происходит не в один и тот же день во всех селах – за каждым селом закреплен свой день недели. Людям, переехавшим в райцентры или в столицу, приходится добираться до могил родных сквозь безумный трафик, который царит в эти дни по всей республике. В тех же приватных и домашних разговорах из года в год можно услышать, что все, это последний год, когда мы тратимся на все эти ритуальные подарки, что все это – только ради людских глаз, мертвым от этого ни тепло, ни холодно, сколько можно из года в год дарить эти полотенца и посуду.
Тем не менее, продажи перед Пасхой блаженных по массовости намного превосходят и предновогодние, и рождественские, и перед 8 Марта, и все прочие. Ни одна, даже самая бедная семья, не может себе позволить прийти на кладбище с пустыми руками. Сметается все в невероятных количествах. Все необходимое для Прохоаде покупается только и исключительно на рынках, никогда не в магазинах. Последние годы продавцы на базарах стали заранее готовиться к этим распродажам. Но им не всегда удается оказаться на волне «моды», которая присутствует и в это области, поскольку подготовка и проведение Пасхи блаженных – область, безусловно, женская.
Но сколь бы иррациональными не казались веяния «моды» в этой области, за ними стоит именно женский прагматизм, основанный на четком экономическом базисе, с одной стороны, с другой – на непрерывном социологическом исследовании в течение целого года в процессе женских разговоров, перетираний и пересудов о том, кто, что и кому дал «за поману», «на помин души» в прошлом году. И, безусловно, иррациональная составляющая – эстетика, в которой женщины чувствуют себя, как рыба в воде. Не то, чтобы в объектах «за поману» обязательно присутствие кича, не то, чтобы эстетика определялась только экономическим фактором (хотя это немаловажно), но женский глаз безошибочно выбирает из массы обычного базарного товара то, что подходит, и отметает то, что не соответствует неким критериям, к тому же меняющимся из года в год. Это вполне обычные функциональные вещи – посуда, полотенца и т.п., особые по эстетике: ни для чего другого их не купишь. О каком-либо предмете могут сказать презрительно: ну, это годится только для того, чтобы дать «поману» или «ну, что они мне подарили – как за поману (с оттенком поговорки «На тебе, Боже, что мне негоже»). И наоборот – наблюдая уже на кладбище за процессом вручения «поман», можно увидеть вспышки радости от вполне недорогих, но по-особому красивых вещей.
Чтобы понять, вокруг чего наворачиваются такие сложные культурные процессы, нужно знать исходный шаблон этого ритуала. В Молдавии этот обычай имеет некоторые своеобразные черты, и ставить знак равенства между ним и Радоницей было бы опрометчиво. Поэтому я буду его называть Пасхой блаженных (или как больше принято в Приднестровье, откуда я родом, – Прохоаде), несмотря на то, что с точки зрения православия этот один и тот же праздник.
Это не только в поминание умерших (как в Радонице), но и жертвоприношение, которое, вероятно, является языческим по происхождению.
Суть обряда, который проводится в первую неделю после православной Пасхи, состоит в том, что с раннего утра на кладбище, где за неделю до этого все лихорадочно приводили в порядок могилы и памятники, стекаются все, кто в состоянии ходить. На могилах расстилаются скатерти или клеенки, и на каждого умершего выкладывается комплект, который в народе называют «помана» (старославянский корень «поминать»), в котором обязательно должны быть: сосуд (от стакана, чашки, тарелки до ведра или дорогого китайского термоса или дорогой эмалированной кастрюли, сервизы тоже не возбраняются, при этом перед вручением поманы в сосуд нужно налить хотя бы немного воды), полотенце (или тканая салфетка, скатерть, а то и махровая простынь), что-либо съестное (конфеты, печенье, калачи, булки). Это обязательный минимум, но ограничиваются им только в самые бедные годы или самые несостоятельные семьи. Далее – must be зависит от пола умершего: за упокой женщины дают платок (чаще всего, но допустимы вариации от блузки до юбки и колготок-чулок, халата или отреза на платье); за упокой мужчины – комплект дополняется рубашкой и/или носками.
Второй обязательный компонент ритуала – еда и питье, которые в атеистически бедные советские годы раскладывали прямо на могилах, со временем же почти на всех кладбищах у большинства могил установили столики и лавки.
В атеистические времена, как правило, отсутствовал главный православный ритуал – служба, которую проводил прямо на кладбище священник, отпевание покойных и освящение «поман» и принесенных селянами еды и питья. Эта служба заканчивается «подниманием» – символическим приподнятием поман и еды на скатерке или полотенце, во время которого и происходит благословение.
После этого происходит вручение поман.
Это самая деликатная область опять-таки регламентируется женщинами. Как и в случае с похоронным обрядом, когда всем значимым участникам церемонии вручаются подарки различной ценности, вручение поман на Пасху блаженных представляет собой материализацию человеческих отношений, складывавшихся на протяжении многих лет, практически всей жизни. По сути, они представляют собой признание тех добрых или не очень добрых дел, которые совершил тот, кому дарят (или не дарят) поману. Это поступки как по отношению к умершему, так и по отношению к его родным, в том числе по отношению к женщине, которая раздает поманы. На самом деле истинная набожность среди сельских жителей – большая редкость, поэтому они не очень рассчитывают на суд Божий – и в каком-то смысле они сами вершат его по поступкам при жизни. Решение о том, какие именно поманы кому вручить, принимаются задолго до Пасхи блаженных. Хотя некоторые импровизации могут присутствовать – в зависимости от явки/неявки реципиентов на кладбище или внезапной смены настроения дарительницы.
В этой области тоже бывают различные «моды». Как правило, поманы предпочитают вручать родственникам или очень близким друзьям, по принципу «чтобы добро из семьи не уходило», но необязательно. Несколько последних лет в некоторых семьях это стало доходить до абсурда – дорогие поманы даже не вынимались из сумок и тут же отдавались только ближайшим родственникам внутри семьи – собственным детям, мужу, матери. Несколько лет назад на Прохоаде мне довелось услышать результат этической работы, проведенной коллективным сознанием – о том, что это все-таки выходит за пределы добра и зла и что так поступать уже неприлично: «все-таки не в 90-х живем»
После этого начинается застолье – все угощают друг друга едой и напитками. Но в отличие от других застолий, на этом празднике практически не бывает ни перебора спиртного, ни выяснения отношений, ни тем более драк. Позитив и ничего кроме позитива.
Эволюция обычая за последние 30-40 лет отражает прежде всего изменение социальных условий. Когда я начал бывать вместе с взрослыми на кладбище (рубеж 60х-70-х), состав поман был минимальным. Тогда во всем царствовал минимум – если мне не изменяет память, на всем кладбище не было еще ни одного каменного памятника – только деревянные и металлические кресты и очень редкие металлические оградки. Все они были выкрашены традиционной светло-голубой масляной краской. Первые памятники появились в начале 80-х.
90-е стали временем масштабных перемен и на сельском кладбище. Присутствие священника и служба стала обязательной году в 91-м. Все постепенно свыкались с новым статусом Прохоаде. Но перед этим был переломный момент. Году в 90-м на кладбище было довольно мало народа (заметно меньше, чем в предыдущем году). Все были мрачны, подавлены и напуганы новыми временами. И казалось, что сам праздник балансирует на грани того, чтобы исчезнуть в недалеком будущем: люди настолько были обессилены борьбой за выживание, что на мертвых не оставалось энергии. За год обстановка в стране стала еще хуже. Но на следующие Прохоаде вдруг собралось столько людей, сколько не бывало никогда на этом кладбище. Общее ощущение выразила моя родственница – будто все собрались, чтобы попросить хотя бы мертвых позаботиться о живых, потому что живые подошли к краю бездны.
То ли мертвые подсуетились, то ли у живых открылось второе дыхание, но с середины 90-х и дальше, в «нулевые годы», Прохоаде стали превращаться почти в ярмарку тщеславия – развернулись подспудные соревнования, чьи поманы круче и богаче, демонстрации статуса приобретали все новые оттенки. По большому счету это не так уж плохо: ведь нигде так, как на кладбище, не видно насколько лучше или хуже стали жить люди. А мертвым отдают только то, без чего уже могут обойтись живые.
Долгое время участие в этом празднике было для меня тягостной обязанностью. Особых долгов я не чувствовал: «мои» мертвые – умершие при моей жизни – покинули этот мир, когда я был почти ребенком. Меня привлекали только какие-то мелочи – пронзительно чистый, отрезвляющий и в то же время нездешний запах кладбищенского чабреца, возможность увидеться с друзьями детства, которых я не видел по многу лет. Или вдруг увидеть в лицах односельчан, которых я знаю с детства, недвусмысленно римские анфасы и профили – легионерские и императорские, как на древнеримских бюстах и камеях. Или поразиться любви к жизни одинокой бездетной бабки, которая дала поману моему другу за саму себя – наперед: потом некому будет дать за нее. И открыв коробок со спичками, который прилагается к калачу, он обнаружил ее маленькую – как на документ – фотографию внутри.
Но, побывав на грани жизни и смерти и испытав страх за жизнь своих близких, подступивших к этой грани, ощутив неописуемую пустоту, ожидающую нас за этой гранью, я стал смотреть на Прохоаде другими глазами. Это великая культура. Как всякая культура – все, что она делает – заполняет образами, чувствами и ритуалами пустоту и хаос, которые всегда от нас на расстоянии вытянутой руки, у нас под ногами. Смерть так велика и вездесуща, что если бы не эта сложная, запутанная и цветастая кулиса, сотканная благодаря кропотливой и абсурдной на вид работе, наше сознание было бы раздавлено бессмысленностью затяжного прыжка из утробы в могилу, называемого жизнью. В этом смысле Прохоаде, как творчество, ничем не хуже «Войны и мира» Толстого или «Кончерто гроссо» Шнитке.
Когда люди начинают расходиться с кладбища после Пасхи блаженных, на их лицах есть то, чего не было до этого: отсвет золотой безмятежности, и тут начинаешь понимать, причем тут блаженные, заключенные в старославянском корне «блажинъ». И начинаешь понимать второе его название – Прохоаде, восходящее к славянскому «проход». Да-да, даже если для этого нужно всем селом ежегодно собираться в праздничной одежде на кладбище, расстилать цветастые скатерти на изумрудном чабреце могил и расставлять яркие предметы и еду – почему нет, если от этого для живых открывается Проход через хаос, и умершие оживают – почему бы и нет?
- Ключевые слова: Радуница
- Фото:
- Обратная связь: Написать в редакцию | Задать вопрос
- Приложения:










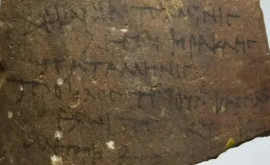













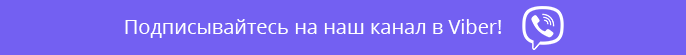




















Добавить комментарий